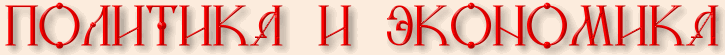
|
|
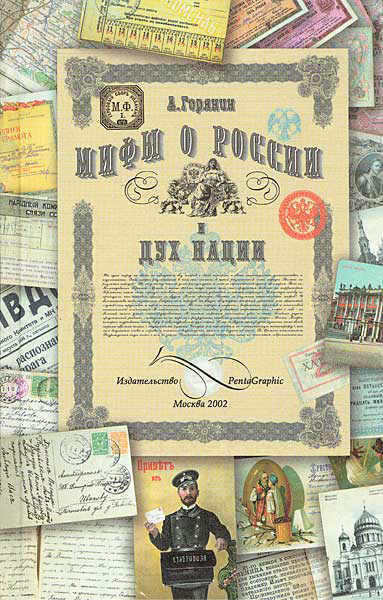
Нам надобно изучать свое
собственное,
свою Россию - наше сердце и счастие наше.
(Александр Терещенко. Быт русского народа, ч. I, СПб, 1848)
Дух российской нации ныне непозволительно низок - и не потому, что он объективно обречен быть таким. Напротив, по совокупности причин ему следовало быть гораздо более высоким. Путь к отметке, на которой он сейчас фиксируется, был долог. К ней вели и подталкивали не только бесспорно негативные факторы, но и сущие, казалось бы, пустяки (а на самом деле, совсем не пустяки) - вроде неудачно закрепившихся словесных клише, стереотипов, навязанных суждений, мифов. Ну, и конечно наша беспечность и наш цинизм. Большим несчастьем было и осталось отсутствие у общества представления о важности такого социального параметра как сила духа.
Все познается в сравнении. Некоторое время назад президент Литвы во всеуслышание пожалел, что нельзя предать суду литовского журналиста за статью под названием “Маленькая сельская Литва смотрит на Европу, как деревня на город”. Канал НТВ сообщил об этом, дабы позабавить зрителей. На фоне .развязности российских газетных шапок контраст между травоядностью заголовка и реакцией главы государства и впрямь должен был вызвать смех. А может, следовало задуматься? Литовского президента заботит явно не “что подумают в Европе” - там о статье никто и не узнает. Его заботит иное: статья, поддерживая невыгодный стереотип, подрывает дух литовской нации. Неужели России полностью чужды подобные заботы?
Россия страдает от стереотипов и мифов о себе куда больше, чем маленькая Литва. Они тормозят и без того затянувшийся процесс пробуждения творческих сил российской нации после долгой спячки, подрывают уверенность в своих силах, сбивают настрой на преодоление трудностей. Нелепицы, постоянно повторяемые публицистами и теледикторами, часто в форме придаточных предложений, т.е. как общеизвестные и уже не обсуждаемые истины, практически не встречают протеста - к ним привыкли. Они незримо закладываются, как константные параметры при планировании социологических исследований (сколько бы это ни отрицалось, но то, что закладывается в вопросы, закладывается и в ответы). На этот вздор, как на объективную данность, опираются публицисты”, политологи, культурологи, философы. Его кладут в основу общественно-политического прогнозирования, социальной футурологии, политических программ ряда партий. Они уже привели и еще приведут к ошибочным решениям.
То, что наше нынешнее состояние духа поддерживается во многом искусственно, проистекает чаще не от злого умысла, а от инерции и умственной лени. Эту инерцию жизненно необходимо переломить. Для того, чтобы это сделать, нужно, по примеру классического психоанализа, начинающего лечение невроза с выявления его подсознательных первопричин, обратиться к истокам явления. Нужно понять, почему Россия поверила в негативный миф о себе, поверила в собственный отрицательный портрет.
Ну что, "поучимся" у Западной Европы?
Все истекшее десятилетие, особенно перед вступлением нашей страны в
Совет Европы, московские газеты неоднократно возвращались к теме
смертной казни. Одни авторы незамысловато истолковывали требование о
ее отмене как попытку нескольких чересчур благополучных стран
навязать России свои понятия, предостерегали нас от такой беды и
убеждали жить своим умом. Другие (из тех, что волнуются как невесты
при слове "Запад") писали еще более интересные вещи. Во-первых, они
объясняли, что на Западе издревле "утвердились гуманизм,
представительная власть, цивилизованный суд, вера в закон и
нелицемерное уважение к человеческой жизни" (цитата подлинная),
а во-вторых, устало сомневались, что жители современной России в
силах даже сегодня усвоить подобную систему ценностей, понять, как
противоестественна смертная казнь. У россиян, де, не тот менталитет
(что бы это ни означало), у них за плечами вереница кровавых
деспотических веков, а представительная власть, цивилизованный суд и
т.д. (см. выше) им никогда не были ведомы.
Будете в Лондоне — купите билет на обзорную экскурсию по центру
города в открытом автобусе. Там есть наушники, можно слушать
объяснения по-русски. У Гайд-парка вы услышите, что там, где сейчас
"уголок оратора", находилось место казней. Казни были основным
общественным развлечением лондонской публики в течение многих веков.
Главная виселица имела какое-то (забыл) шутливое имя. Повод для
юмора был налицо: там на разновысоких балках была 21 петля, так что
получалось подобие дерева. То ли она напоминала англичанам елку с
украшениями, то ли что-то еще. И виселицы работали без простоев,
недогрузки не было.
Некоторые вещи помогает понять искусство. Историки культуры давно
признали, что даже в античных, библейских и мифологических сюжетах
европейские художники отражали реалии окружавшей их жизни. И эти
реалии ужасают. Посмотрите на гравюры Дюрера и Кранаха. Вы увидите,
что гильотина существовала за два века (!) до Французской революции.
Вы увидите, как в глаз связанной жертве вкручивают какой-то
коловорот, как вытягивают кишки, навивая их на особый вал, как
распяленного вверх ногами человека распиливают пилой от промежности
к голове, как с людей заживо сдирают кожу. Сдирание кожи заживо —
достаточно частый сюжет не только графики, но и живописи Западной
Европы, причем тщательность и точность написанных маслом картин
свидетельствует, во-первых, что художники были знакомы с предметом
не понаслышке, а во-вторых, о неподдельном интересе к теме.
Достаточно вспомнить голландского живописца конца XV — начала XVI
вв. Герарда Давида.
Московское издательство "Ad Marginem" выпустило в 1999 году перевод
работы современного французского историка Мишеля Фуко "Надзирать и
наказывать" (кстати, на обложке — очередное сдирание кожи),
содержащей немало цитат из предписаний по процедурам казней и
публичных пыток в разных европейских странах вплоть до середины
прошлого века. Европейские затейники употребили немало фантазии,
чтобы сделать казни не только предельно долгими и мучительными, но и
зрелищными — одна из глав в книге Фуко иронически озаглавлена "Блеск
казни". Чтение не для впечатлительных. [Фуко перечисляет страны,
принявшие "современные" судебные кодексы (что знаменовало новую эру
в уголовном правосудии), в таком порядке: "Россия, 1769; Пруссия,
1780; Пенсильвания и Тоскана, 1786; Австрия, 1788; Франция, 1791
(год IV), 1808 и 1810" (М.Фуко, "Надзирать и наказывать", М., 1999,
с. 13).] .
Гравюры Жака Калло с гирляндами и гроздьями повешенных на деревьях
людей — отражение не каких-то болезненных фантазий художника, а
подлинной жестокости нравов в Европе XVII века. Жестокость
порождалась постоянными опустошительными войнами западноевропейских
держав уже после Средних веков (которые были еще безжалостнее).
Тридцатилетняя война в XVII веке унесла половину населения Германии
и то ли 60, то ли 80 процентов — историки спорят — населения ее
южной части. Папа римский даже временно разрешил многоженство, дабы
восстановить народное поголовье. Усмирение Кромвелем Ирландии стоило
той 5/6 ее населения. Рядом с этим бледнеет сама святая инквизиция.
Что касается России, она на своей территории в послеордынское время
подобных кровопусканий не знала даже в Смуту. Более того, Россия —
почти единственная страна, не допустившая свойственного позднему
европейскому средневековью сожжения заживо тысяч людей. [Российское
законодательство Х-ХХ веков, т.3, М., 1985, с. 259.] Видимо, поэтому
не знала она и такой необузанной свирепости нравов. Подробнее об
этом речь пойдет чуть ниже.
На протяжении почти всей истории человеческая жизнь стоила ничтожно
мало именно в Западной Европе. Сегодня без погружения в специальные
исследования даже трудно представить себе западноевропейскую
традицию жестокосердия во всей ее мрачности. Немецкий юрист и
тюрьмовед Николаус-Генрих Юлиус, обобщив английские законодательные
акты за несколько веков, подсчитал, что смертную казнь в них
предусматривали 6789 статей. Еще в 1819 году в Англии оставалось 225
преступлений и проступков, каравшихся виселицей. Когда врач
английского посольства в Петербурге писал в в своем дневнике в 1826
г., насколько он поражен тем, что по следам восстания декабристов в
России казнено всего пятеро преступников, он наглядно отразил
понятия своих соотечественников о соразмерности преступления и кары.
У нас, добавил он, по делу о военном мятеже такого размаха было бы
казнено, вероятно, тысячи три человек.
А теперь возьмем самый древний свод нашего права, "Русскую правду",
он вообще не предусматривает смертную казнь! Из "Повести временных
лет" мы знаем, что Владимир Святославич пытался в 996 г. ввести
смертную казнь для разбойников. Сделал он это по совету византийских
епископов (т.е. по западному наущению), но вскоре был вынужден
отказаться от несвойственных Руси жестоких наказаний.
Впервые понятие смертной казни, которая предусматривалась за измену,
за кражу из церкви, поджог, конокрадство и троекратную кражу в
посаде, появляется у нас в XV веке в Псковской судной грамоте и в
Уставной Двинской грамоте. То есть, первые шесть веков нашей
государственности прошли без смертной казни, мы жили без нее дольше,
чем с ней. Понятно и то, почему данная новация проникла сперва в
Двинск и Псков. Двинск — это ныне принадлежащий Латвии Даугавпилс (а
в промежутке — Динабург), да и Псков неспроста имел немецкий вариант
своего имени (Плескау). Оба города были, благодаря соседству с
землями Тевтонского и Ливонского Орденов, в достаточной мере
(гораздо теснее, чем даже Карпатская Русь или Литовская Русь)
связаны с Западной Европой. Новшество постепенно привилось. Но даже
в пору Смуты смертная казнь не стала, как кто-то может подумать,
привычной мерой наказания. Земский собор Первого ополчения 1611 года
запрещает назначать смертную казнь "без земского и всей Земли
приговору", т.е. без согласия Земского собора. Судя по тому, что
ослушник обрекал на казнь себя самого, нарушение правила об
обязательности утверждения смертного вердикта Земским собором было
одним из самых страшных преступлений. Едва ли такие ослушники
находились.
Либеральная школа (на самом деле радикальная) сумела внушить слишком многим, что история у нас жуткая и что Россия это такое место, где всегда было плохо. Ой ли? Понять, хорошо или плохо было в данной стране, довольно просто. Надо выяснить, стремились в нее люди или нет.
И что же? В Россию, а до того — в русские княжества, стремились всегда.
Родословные пестрят записями вроде: "Огаревы — русский дворянский род, от мурзы
Кутлу-Мамета, выехавшего в 1241 году из Орды к Александру Невскому"; "Челищевы —
от Вильгельма (правнука курфюрста Люнебургского), прибывшего на Русь в 1237
году"; "Хвостовы — от маркграфа Бассавола из Пруссии, выехавшего в 1267 г. к
великому князю московскому Даниилу"; "Мячковы — от Олбуга, "сродника Тевризского
царя", выехавшего к Дмитрию Донскому в 1369 г."; "Елагины — от Вицентия, "из
цесарского шляхетства", прибывшего в 1340 г. из Рима в Москву, к князю Симеону
Гордому" и так до бесконечности.
Во времена ордынского ига (ига, читатель!) иностранцы идут на службу к князьям
побежденной, казалось бы, Руси. Идут "от влахов", "от латинов", "от ляхов", "от
литвы", "от чехов", "от свеев", "из Угорской земли", "из немец", "из Царьграда"
и, что поразительно, из Орды. Переселения простых людей не отразились в
"бархатных книгах", но несомненны. С XI века в Киеве, Новгороде, Владимире
известны поселения армян и грузин, в Москве уже в XV веке были греческая и
польская (Панская) слободы, в XVII возникла грузинская, не переводились
персияне, турки и "бухарцы" (в седьмой главе "Евгения Онегина" последние названы
среди постоянных московских персонажей). В русские пределы сознательно
переселялись целые народы: между 1607 и 1657 переселились из китайской Джунгарии
калмыки, а после русско-турецкой войны 1806-12 переселились гагаузы. Вслед за
Столбовским миром с Швецией на русские земли устремляются "из-под шведов" водь,
ижора и карелы. И уже почти не в счет (а собственно, почему?) сотни тысяч "чиркасов
запорожских" — по-нынешнему, украинцев, бежавших из Сечи на российские земли,
начиная с 1638. Во все достатистические века в Русь-Россию непрерывно вливались
народные струйки с Балкан, Кавказа, из Персии, придунайских земель, Крыма,
Бухары, германских княжеств, из Литвы, не говоря уже о славянских землях. Имей
мы родословные древа, уходящие вглубь веков, почти каждый нашел бы кого-то из
этих людей среди своих предков.
Появление с XVIII века статистики позволяет называть уже почти точные цифры.
Скажем, число немцев, въехавших в Россию при Екатерине II, чуть не дотянуло до
ста тысяч, а за 87 лет между 1828 и 1915 к нам вселилось, ни много, ни мало, 4.2
млн иностранцев, больше всего из Германии (1.5 млн чел.) и Австро-Венгрии (0.8
млн) . Вообразите число их потомков сегодня! К началу Мировой войны 1914 года
Россия была вторым, после США, центром иммиграции в мире — впереди Канады,
Аргентины, Бразилии, Австралии. В Россию переселялись греки, румыны, албанцы
("арнауты"), болгары, венгры, македонцы, хорваты, сербы, черногорцы, галицийские
и буковинские украинцы, чехи, словаки, все те же немцы, китайцы, корейцы, персы,
турецкие армяне, ассирийцы (айсоры), курды, ближневосточные арабы-христиане. Вне
статистики остались переселявшиеся в собственно Россию жители ее окраин —
прибалтийских и кавказских губерний, русского Туркестана, Бухарского эмирата,
Великого княжества Финляндского, поляки и литовцы Царства Польского.
Раз уж мы упомянули освобождение помещичьих крестьян в 1861 году, проделайте
такой опыт: спросите какого-нибудь знакомца, слывущего эрудитом, какой процент
тогдашнего населения России они составляли? Потом второго, третьего. У меня
хватило терпения опросить пятерых. Все ответили, что, поскольку Россия была
тогда крестьянской страной, процентов 90. Они сказали так не потому, что где-то
встречали подобную цифру, а потому, что цифра была в духе того, что они вынесли
из советской школы. Правильный же ответ таков: около 28% (22,5 млн освобожденных
от крепостной зависимости на 80-миллионное население страны). Во времена Павла I,
всего шестью десятилетиями раньше, доля крепостных была вдвое(!) выше. То есть,
выход людей из крепостного состояния происходил естественным ходом вещей и до
реформы 1861 года, притом исключительно быстро. Эти данные вы найдете во
множестве книг, например, в трудах авторитетного дореволюционного историка
крестьянства В.И.Семевского ("Крестьянский вопрос в России...", т.1-2, СПб, 1888
и др.). Но и тени представления об этом не встретишь сегодня даже у начитанных
людей.
Вспоминаю об этом всякий раз, читая очередные, но примерно одинаковые,
рассуждения об "исторических судьбах" нашего отечества (или "этой страны"). Как
я уже упоминал, нынешняя вспышка журнального россиеведения почему-то чаще
отмечена отрицательным знаком. Я уже привык к неофитскому трепету, с которым
очередной пылкий невежда клянет наше несчастное, на его (ее) вкус, прошлое. Им
всегда ненавистна "крепостная Россия", "немытая Россия" (о "немытой" у меня
будет отдельный и подробный разговор), "деспотическая Россия", "нищая Россия"
(при внимательном же анализе написанного обычно видно, что ненавистна всякая
Россия), и почти из каждой строки торчит незнание предмета.
С придыханием пишут, например, как все хорошо и правильно складывалось в
благословенной Европе. Вспоминают продовольственную программу XVII века,
выдвинутую французским королем Генрихом IV: "хочу, чтобы каждый мой
крестьянин по воскресеньям имел суп, а в нем курицу". Правда, прошло почти
сто лет после этих замечательных слов, и путешествующий по Франции Жан Лабрюйер
записывает следующее: "Всматриваясь в наши поля, мы видим, что они усеяны
множеством каких-то диких животных, самцов и самок, со смуглым,
синевато-багровым цветом кожи, перепачканных землею и совершенно сожженных
солнцем... Они обладают чем-то вроде членораздельной речи, и когда кто-либо из
них поднимается на ноги, у него оказывается человеческое лицо... На ночь они
прячутся в свои логовища, где живут черным хлебом, водой и кореньями"
(цитату из Лабрюйера приводит Ипполит Тэн в своей знаменитой книге "Старый
порядок", пер. с франц., СПб, 1907). За один 1715 год, пишет уже сам Тэн, от
голода (не от чумы!) вымерла треть крестьянского населения Франции — и,
заметьте, это не вызвало даже бунта против помещиков. В маленькой Саксонии от
голода 1772 года умерло 150 тысяч человек — и тоже обошлось без потрясений.
Как беспощадно жестко была регламентирована жизнь крестьян Англии (уж не говорю
о батраках, работавших за репу и джин) вплоть до конца Промышленной революции, я
понял, побывав в музее крестьянского быта в графстве Уилтшир. Зато, слышу я,
английский крестьянин остался свободным человеком. Скорее в теории. Он был
намертво прикреплен к месту рождения. Как раз в годы царствования нашего Петра I,
главного русского закрепостителя, в Англии свирепствовал Act of Settlement, по
которому никто не мог поселиться в другом приходе, кроме того, где родился, под
страхом "ареста и бесчестия". Для простой поездки в город крестьянину
требовалось письменное разрешение (license). Многие помещичьи поля еще в XIX(!)
веке охранялись с помощью ловушек и западней, которые могли искалечить и убить
голодного вора. Видно, были причины охранять.
По контрасту, в набросках к неоконченным "Мыслям на дороге" Пушкин приводит
слова своего дорожного попутчика — что характерно, англичанина (пушкинисты
выяснили, что звали этого человека Calvil Frankland и что он жил в России в
1830-31 годах ): "Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на
произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин
промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе
деньгу... Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более
простору действовать". Министр уделов Д.А.Гурьев писал в 1811 году о
крестьянах: "Они занимаются всякого рода торгами во всем государстве,
вступают в частные и казенные подряды, поставки и откупа, содержат заводы и
фабрики, трактиры, постоялые дворы и торговые бани, имеют речные суда".
Царящие ныне представления о русском крестьянстве былых времен неузнаваемо
искажены политическими манипуляциями, и такой ненаучный источник, как изящная
словесность оказывается в этом смысле надежнее, чем труды неизлечимо
пристрастных "прогрессивных публицистов" старой России, не говоря уже о
марксистских историках советского времени. Или народный поэт Кольцов был
соцреалистом XIX века, лакировщиком действительности? Приведу его стихотворение
"Сельская пирушка" (1830):
Ворота тесовы растворилися,
На конях, на санях гости въехали;
Им хозяин с женой низко кланялись,
Со двора повели в светлу горенку.
Перед Спасом Святым гости молятся;
За дубовы столы, за набраные,
На сосновых скамьях сели званые.
На столах кур, гусей много жареных,
Пирогов, ветчины блюда полные.
Бахромой, кисеей принаряжена,
Молодая жена чернобровая
Обходила подруг с поцелуями,
Разносила гостям чашу горькова;
Сам хозяин за ней брагой хмельною
Из ковшей вырезных родных потчует;
А хозяйская дочь медом сыченым
Обносила кругом с лаской девичьей.
Гости пьют и едят, речи гуторят:
Про хлеба, про покос, про старинушку;
Как-то Бог и Господь хлеб уродит нам?
Как-то сено в степи будет зелено?
Гости пьют и едят, забавляются
От вечерней зари до полуночи.
По селу петухи перекликнулись,
Призатих говор, шум в темной горенке,
От ворот поворот виден по снегу.
Марксисты небезуспешно вдалбливали мысль о том, что русский крестьянин был нищ
всегда, на протяжении всей истории России. Так ли это? Вот каков был, по
разысканиям В.Ключевского, в 1630 (после разрухи Смутного времени!) типичный
малоземельный крестьянский двор Муромского уезда, засевавший всего-то около
десятины (1,09 га) озимого поля: "3-4 улья пчел, 2-3 лошади с жеребятами, 1-3
коровы с подтелками, 3-6 овец, 3-4 свиньи и в клетях 6-10 четвертей
(1,26-2,1 куб.м — А.Г.) всякого хлеба" (В.О.Ключевский, "Курс русской
истории", т.2, М.1988, стр.281.).
С неожиданной стороны освещает уровень благополучия допетровской России Юрий
Крижанич, хорват и католик, проживший у нас во времена царя Алексея Михайловича
17 лет (с 1659 по 1676) и увидевший значительную часть тогдашнего русского
государства — от его западных границ до Тобольска. Крижанич осуждает — что бы вы
думали? — расточительность русского простолюдина: "Люди даже низшего
сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы..., а что можно
выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые
золотом и жемчугом?... Шапки, однорядки и воротники украшают нашивками и
твезами [?], шариками, завязками, шнурами из жемчуга, золота и шелка".
Про бояр и говорить нечего. "На то, что у нас [т.е. в России — А.Г.]
один боярин по необходимости должен тратить на свое платье, оделись бы в
указанных странах [Крижанич перед этим рассказывал, как одеваются в Испании,
Италии и Германии — странах, хорошо ему знакомых — А.Г.] трое князей... На
западных платьях более разумного покроя нет ни пуговиц, сделанных из золота и
драгоценных камней, ни золотых твезов, ни шелковых и золотых кистей, ни
жемчужных нашивок".
Но и это еще не все. "Следовало бы запретить простым людям употреблять шелк,
золотую пряжу и дорогие алые ткани, чтобы боярское сословие отличалось от
простых людей. Ибо никуда не гоже, чтобы ничтожный писец ходил в одинаковом
платье со знатным боярином... Такого безобразия нет нигде в Европе. Наигоршие
черные люди носят шелковые платья. Их жен не отличить от первейших боярынь"
(Юрий Крижанич, "Политика", М., 1965). Любопытное "свидетельство о бедности", не
так ли?
Кстати, Россия предстает в этих цитатах как страна, на триста лет опередившая
свое время. Именно наш век пришел к тому, что "писца" почти во всем мире стало
невозможно по одежде отличить от "боярина". В своем веке Крижанич подобных
вольностей не видел более нигде. В России каждый одевался как желал и мог. Вне
ее царил тоталитарно-сословный подход к облачению людей. Венеция и некоторые
другие города-республики, читаем у Крижанича, "имеют законы об одежде,
которые определяют, сколько денег дозволено тратить людям боярского сословия на
свою одежду".
Перейдем к мифу ни отрицательному, ни положительному, а просто ошибочному, к
мифу об общине. Община — любимица изрядной части современной российской
публицистики, священная корова политических деклараций некоторых партий.
Общинность, внушают нам, есть родовой признак нашей национальной души, русский
способ жизни. Среди базовых констант, которые берутся в расчет при социальном
прогнозировании и в политической футурологии, часто фигурирует и наша якобы
общинная психология.
Противопоставляя "русскую общинную психологию" западному индивидуализму,
публицисты делают вид, будто речь идет о предмете настолько бесспорном, что
обсуждать его излишне. Однако неосторожные детали частенько выдают, что понятие
об общине у них довольно смутное. Примерно такое: как пришли, мол, славяне на
приполярную Русскую равнину, так и порешили выживать среди бескрайних снегов
коллективными хозяйствами за счет взаимовыручки. С тех пор и по сей день на Руси
стихийный общинный социализм. Один за всех, все за одного.
На деле же, как естественная форма народной самоорганизации для совместной
борьбы с природой, община в России сошла на нет еще до появления самого слова
"Россия". Наш блестящий этнограф дореволюционной школы академик Д.Зеленин
посвятил уцелевшим формам коллективного, общинного поведения крестьян раздел
"Общественная жизнь" в своем капитальном труде "Восточнославянская этнография".
В предисловии он подчеркивает, что его труд писался в начале 20-х гг. на
материалах "второй половины XIX — начала ХХ в". И уже тогда эти формы были
этнографическим эхом.
Самое ценное в общине, старинная "толока" или "помочь" (т.е. коллективная работа
односельчан для выполнения трудной или спешной общей задачи) сохранилась, пишет
Зеленин, лишь в форме таких отзвуков, как опахивание деревни при болезнях скота
или постройка за один день "обыденного храма" во время моровых язв. "Лишь
кое-где у белорусов" сохранилась бесплатная работа соседей в пользу погорельца
или немощного. "Нынешние" же (для нас — вековой давности) случаи коллективной
работы он описывает так: "Ее устраивают только люди зажиточные, пользующиеся
влиянием в обществе. Обычно на толоке людей прельщает обильное угощение,
которого у бедняков не бывает. К этому прибавляется и стремление оказать услугу
влиятельному человеку. Нередко толока обходится хозяину дороже, нежели найм
рабочих". Иногда "работающих привлекает не только угощение, но также и взаимные
обязательства, связанные с такими услугами" (т.е. порождая обязательства, каждый
вправе рассчитывать на "отработку" в разных формах), и "в обоих случаях работа,
в которой участвуют ради более или менее богатого угощения с вином, завершается
праздничным пирогом и танцами". [Д.К.Зеленин, "Восточнославянская этнография",
М., 1991, стр.362.] Картина, что и говорить, мила воображению, но где тут та
община, в которую объединяются ради выживания перед лицом безжалостной природы?
Можно, конечно, объявить приметами такой общины любые этнографические детали
быта, порожденные тем, что односельчане имеют общие интересы, должны как-то
общаться и взаимодействовать, улаживать споры. Можно объявить ими каждое
проявление милосердия к сиротам и вдовам, любые посиделки, где работа совмещена
с разговорами и забавами, все развлечения сельской молодежи и т.д. — но такое
есть везде в мире, где сельская жизнь еще сохраняется, а говорить об общине
оснований давно уже нет.
Так на какую же возлюбленную русским народом вековечную общину ссылаются сегодня
наши народоведы? Я теряюсь в догадках. Низовые общественные структуры XIV-XVII
веков, удобные власти и поощрявшиеся ею как инструмент извлечения податей и
решения государственных задач, включая военные, никакого отношения к
"взаимовыручке перед лицом суровой природы" также не имели. Эти структуры — они,
кстати, вовсе и не именовались "общиной" — строились по принципу круговой
поруки, были рычагом утеснения и контроля. Скажем, "Приговор" (т.е.
постановление) Земского собора 1619 года фактически прикреплял посадских людей к
месту жительства тем, что уход любого увеличивал размер доли налога оставшихся.
Оставалось лишь убегать, что и делалось.
Переход от посошного (в "соху" могло входить разное количество деревень, дворов,
людей и пашни) к подворному обложению, а затем к подушной подати должен был,
казалось, знаменовать собой окончательную смерть традиционной общины. И в самом
деле, все, что напоминало о ней, исчезает из русских правовых актов, пока вдруг
ее заново не "открыл" в 1847 ученый немец барон Франц Август фон
Гакстгаузен-Аббенбург. Изучая жизнь государственных крестьян, он выяснил, что
общность полей (первый признак общины) действительно исчезла "еще в домосковскую
эпоху", но "в конце XVIII века под влиянием фискальной политики правительства"
возродилась вновь. "В конце XVIII века" — то есть после указа Екатерины II от 19
мая 1769, касавшегося государственных крестьян.
Нет, этот указ не повелевал воскрешать какие-то старозаветные обычаи. Он лишь
предписывал, что ответственность за подушные подати ложится не на каждую "душу",
а на старост, избираемых этими душами. В случае же образования недоимок и
неуплаты их в годовой срок старост и выборных полагалось забирать в города,
держать под караулом и употреблять их в городовые работы без платежа, доколе вся
недоимка не будет погашена. Такие правила игры понемногу вернули и круговую
поруку, и правило, по которому желающий покинуть деревню должен был найти себе
заместителя. С годами тяжесть именно подушной подати вернула общность полей
(т.е. они стали общей собственностью — подобно тому, как хозяином квартиры в
кооперативном доме является не ее житель, а кооператив), а затем и уравнительные
"переделы", т.е. перераспределение участков между дворами по требованию кого-то
из общинников в зависимости прибавления или убыли едоков. Так что барону
осталось лишь приехать и сделать свое этнографическое открытие.
Кстати о переделах. Поклонники социализма вольны усмотреть в них
социалистический идеал справедливости (во-первых, не позволить никому разориться
настолько, чтобы быть согнанным с земли, а во-вторых, не позволить, чтобы
кому-то стало намного лучше, чем соседу), но даже эта версия не в силах
объяснить переделы суровостью нашей природы. Это было отступление крестьян под
напором алчной власти, вынужденная самооборона. Кстати, несмотря ни на что, к
подобному "социализму" склонилась далеко не вся сельская Русь, едва ли не
преобладали местности, где переделы так и не привились.
Указ 1769 года был хоть и важным, но не главным шагом к насильственной "общинизации"
страны. Решающая заслуга тут принадлежала генералу П.Д.Киселеву. Реформируя
управление казенными, удельными и временно обязанными крестьянами, он начал в
1838 внедрять в жизнь свое "Положение об устройстве быта государственных
крестьян" — смесь археологических обычаев и придуманных форм. Уже первые слухи о
готовящихся нововведениях сильно встревожили тех, чей быт желал "устроить"
Киселев. Как пишет историк русского частного права В.Леонтович, под влиянием
этих слухов "зажиточное крестьянство стало переходить в городское состояние".
Пуще всего люди боялись "введения общественной запашки [т.е. упразднения
семейных участков и слияния их в единое поле; не путать с общностью полей —
А.Г.]. Это явно противоречит предвзятому мнению о том, что "великороссам присуще
врожденное стремление к коллективизму"". [В.В.Леонтович, "История либерализма в
России", М., 1995, стр.159.]
Общественной запашки, конечно, не ввели, и все же новшества Киселева в деле
"устройства быта", а точнее, насильственной общинизации крестьянства можно
рассматривать как первое, хоть и разбавленное, издание колхозов. Эти новшества
встретили повсеместное сопротивление, а в Приуралье, Поволжье, губерниях Севера
и на Тамбовщине вызвали настоящие бунты с участием полумиллиона крестьян,
желавших управляться на своей земле без диктата общины. Однако упорство
государственной машины сделало свое дело: в течение двух десятилетий — как раз к
реформе 1861 года — новые правила были внедрены. Творцы же реформы (Киселев
среди них) решили: пусть на переходный период, т.е. до полного выкупа земли,
киселевская организации сельской жизни станет обязательной и для бывших
помещичьих крестьян. Говоря об этой новоявленной, только что сконструированной
общине, выдающийся государствовед конца прошлого века Б.Н.Чичерин выразился
предельно ясно: "Ее вызвали к жизни потребности казны". Закрепленная юридически,
она со временем стала словно в насмешку считаться "традиционной русской
общиной".
В пореформенной общине, а точнее, в "обществе" совместились разные роли:
юридического лица, владеющего землей; ответчика за подати и иные повинности;
производителя общественных работ; самоуправляющейся социальной ячейки и двух
("сельское общество" и "волостное общество") низших административных единиц.
Руководство "обществом" обычно захватывал особый тип людей, хорошо известный
затем по колхозным временам. Их все очень устраивало. И государственную власть
все очень устраивало. Власть всегда предпочитает, когда есть возможность, не
возиться с отдельными людьми, пусть возится "мир" ("мiр"), связанный
ответственностью всех за каждого. Удобно оказалось, на беду, и многим
общинникам, людям дюжинным и опасливым, часто (не всегда) удобно было лодырям и
пьяницам. Не удобно только самым предприимчивым. Они общину ненавидели, но почти
никогда не могли завоевать в ней 2/3 голосов, необходимых для превращения
общинной собственности в частную.
Окончательно оформившаяся между 1861 и 1917 община — совсем не то, что воспевают
современные коммунофилы. За что-то хорошее, нашенское, искони бытующее они
принимают поздний, навязанный, в кабинетах измышленный институт. Считать такую
общину высоким порождением нашего народного духа — просто досадное
недоразумение. Прочтите 168 статей из "Общего положения о крестьянах" 1861 года,
этот подробнейший план устройства и функционирования "сельских обществ и
волостей", и вам все станет ясно. Бюрократический генезис общины был тогда
очевиден всем, жаль, что забыт ныне. Хотя скажем и то, что "Положение" усилило
роль такого демократического института, как сельский сход, и когда, начиная с
1905 года, в России стали происходить демократические выборы, крестьянам не надо
было объяснять, что это такое. [Впрочем, и их предкам, даже далеким, также не
надо было объяснять, что это такое. Для Руси-России всегда было характерно
обилие выборных должностей. Соответствующая фактография обобщена в книге
В.Н.Белоновской и А.В.Белоновского "Представительство и выборы в России с
древнейших времен до XVII века" (М., 1999). Особенно ценно в ней описание
системы выборов в Земские соборы допетровской Руси (цензы, наказы, выборные
округа, институт выборщиков).]
Говоря о советских временах, этнолог В.Тишков подчеркивает: "Советский человек
был очень частным человеком, и именно это обстоятельство пропустила наша
экспертиза, увлекшись анализом мира пропаганды и верхушечных установок". Даже
немного странно, что это надо кому-то доказывать. Всякий, кто наблюдал жизнь не
из кабинетов Старой площади, знает, что русские хоть и участливы, но при этом до
такой степени не коллективисты, что это можно рассматривать как врожденное
народное свойство (известный недостаток, если хотите). Кто этого не учитывал,
всегда обжигался — как Александр I с его "военными поселениями", задуманными по
образцу коммун. Провал усилий сделать коллективное сельское хозяйство
рентабельным был наиболее явным именно в РСФСР. Не во всех прочих республиках
колхозы оказались столь же безнадежной затеей. Форм вполне успешного общинного
хозяйствования в мире не так уж мало и сегодня. Это мексиканские "коммуны" и "эхидо",
израильские "кибуцы", японские "сонраку", шведские "коллективы", итальянские
"арки". В России же, как было упомянуто выше, не выжили даже полезные пережитки
общинной жизни, подобные узбекскому хашару или белорусской толоке.
Когда газеты у нас начинают обсуждать межэтнические отношения, сразу выясняется:
читательская масса, не подозревающая о том, что наши обществоведы постановили
считать нас народом с общинной психологией, держится как раз противоположного
убеждения. Всего одно читательское высказывание: "У русских нет традиции жить и
работать этническими, земляческими общинами, а напрасно!" (Московские новости,
24.5.98). По контрасту, наш простой человек сразу подмечает в других народах
(почти во всех) такую черту: "Эти-то, — говорит он, — подружнее наших будут".
Подружнее, значит, пообщиннее по сравнению с нами.
В последние годы россияне стали бывать за границей, и те, кто ездили не в
составе туристских групп, а гостили у друзей или родни, почти наверняка замечали
вокруг себя наличие общинной жизни. Самые настоящие общины, весьма властно
ведающие массой вопросов (они могут, например, запретить хозяину дома продать
его нежелательному, на взгляд общины, лицу), действуют в тех новых, иногда
обнесенных оградой поселках для людей среднего класса, где все дома сперва
одновременно возводятся, а затем более или менее одновременно заселяются — в
Испании такие поселки зовут urbanizationes, в Англии, кажется, developments. В
США я слышал от наших евреев, переселившихся в эту страну, что они находятся под
опекой местной еврейской общины. В маленьком итальянском городке улица (т.е.
община соседей ) устраивает "праздник улицы", ради которого всем, включая собак,
заказывают майки с приличествующей надписью, в день праздника улица заставлена
столами с угощением и пр. На мой вопрос, не замрет ли соседское единение до
следующего года, мне ответили, что улица круглый год сообща решает вопросы
своего быта и благоустройства, детского досуга, борется со слишком громкой
музыкой и противоугонными сиренами; только что решили (с перевесом всего в
голос) устроить на проезжей части через каждые 50 метров пологие горбики, чтобы
машины не могли разгоняться — ну и так далее.
В России подобных тенденций совершенно не наблюдается, и об этом следовало бы
даже посожалеть, ведь община — гражданское общество в миниатюре, а о гражданском
обществе у нас ныне не вздыхает только ленивый. Но — чего нет, того нет.
Отсутствует в нас коллективизм и тяга к общинному сотрудничеству.
Сама возможность существования мифа о терпении и покорности русского народа —
вещь довольно странная. Спросим у себя хотя бы следующее: чего ради
коммунисты создали такую беспримерно мощную карательную машину, такую
неслыханную в мировой истории тайную политическую полицию и с их помощью
умертвили десятки миллионов своих же сограждан? Неужели из чистого садизма? Вряд
ли. Может, с целью уменьшить толчею на стройплощадке коммунизма? Непохоже.
Я слышал, правда, и такой ответ: всякий тоталитаризм держится на поиске врага и
устрашении, вот коммунисты и устрашали. Данная гипотеза плохо вписывается в
подлинные события советской эпохи. Запугивание действенно, если доводится до
сведения каждого. Таким оно было в гражданскую войну, когда большевики печатали
в газетах и вывешивали на заборах списки расстрелянных и взятых в заложники. Но
когда душегубы начинают действовать предельно скрытно, существование концлагерей
(не говоря уже о числе казнимых) становится государственной тайной, репрессии
яростно отрицаются, а официальное искусство и идеология изо всех сил изображают
счастливую, жизнерадостную и практически бесконфликтную страну, это означает,
что запугивание отошло на второй план, а на первом встала другая задача —
истреблять тех, кто враждебен воцарившемуся строю, кто сопротивляется либо
способен и готов к сопротивлению, кто ждет или предположительно ждет своего
часа. Не будем себя обманывать: чекисты видели врагов. С помощью самого
чудовищного в истории "профилактического" террора они тайно ломали потенциал
народного сопротивления.
Не ясно ли, что для целей простого устрашения количество жертв этого террора
было бесконечно избыточно? Приходится признать: сила карательного действия
вполне адекватно отразила силу и потенциал противодействия. Это противодействие
редко прорывалось на поверхность, не имело шанса заявить о себе, быть услышанным
и увиденным. Чем дальше, тем оно больше становилось подспудным, пассивным,
инстинктивным, но коммунисты все равно не смогли его одолеть — ни во времена
коллективизации, ни во времена "бригад коммунистического труда". Сколь бы долог
ни был путь коммунистов к поражению, этот путь был предопределен именно
тотальным "сопротивлением материала".
Загнанное внутрь, сопротивление вылилось в формы неосознанного саботажа,
превратив все затеи большевистских вождей в пародию и карикатуру на
первоначальный замысел. Оно отразило процесс постепенного тканевого отторжения
Россией большевизма из-за их биологической несовместимости. "Сопротивление
материала" во всех его формах отменило саму возможность коммунизма. В конечном
счете, именно оно — не иностранные армии, как в случае Германии, Италии или
Японии — вернуло в Россию свободу.
Но может быть период строительства "измов" как-то нетипичен для нашей истории?
Что ж, давайте вернемся к истокам этой строительной деятельности, к событиям
1917 года и порожденных ими долгой гражданской войны. Кровавость этого периода
также едва ли говорит о тяге ее участников к непротивлению. Никак не
свидетельствует о такой тяге и гражданская война 1905-07 годов. Весь российский
ХХ век можно рассматривать как продолжение и развитие событий этих двух
непримиримых гражданских войн . Основы (если так можно выразиться) поражения
коммунистов были заложены во время "главной" гражданской войны 1917-20 годов.
Большевистское руководство было убеждено, что их военную победу (на которую они
поначалу мало надеялись) увенчает появление принципиально нового общества —
общества без товарно-денежных отношений и вообще денег. Новое общество не будет
ведать "имущественного рабства", в нем исчезнет институт наследования, мгновенно
отомрут необоснованные потребности и, самое главное, будет действовать
строжайшая система учета и распределения всего и вся. Эта система выявит точные
соответствия, эквиваленты трудовых усилий, например, врача и пастуха, чтобы
каждый был вознагражден в соответствии с затраченными усилиями. И всем станет
хорошо. Но ни к чему подобному, как мы знаем, военная победа большевиков в
гражданской войне не привела, оставшись военно-карательной, террористической
победой.
С точки же зрения собственных идеалов, коммунисты закончили гражданскую войну
тяжелейшим поражением — нэпом. Они просто не совладали с населением страны. Нэп
уже сам по себе означал крушение коммунистического проекта. Вся дальнейшая
история СССР представляла собой сочетание слабеющих попыток воскресить этот
проект (во все более редуцированных версиях) с оппортунистическим
приспособлением власти к наличному народу. Хотя, конечно, и народа к власти —
никуда не денешься.
Встречное приспособление народа позволило коммунистам — через четыре десятилетия
после захвата власти! — пойти на ощутимое сокращение размаха деятельности своей
карательной машины. К тому времени она перемолола значительную часть населения
страны, но, как мы теперь хорошо знаем, так и не сумела сделать коммунизм
необратимым.
ХХ-й век не уникален в истории России. Сколько ни углубляйся в наше прошлое, к
какому его отрезку ни обратись, постоянно бросается в глаза, особенно на фоне
остальной Европы, действие фактора, который писатель Трифонов вынес в заголовок
своего исторического романа. Имя этого фактора — нетерпение. Россия — едва ли
не мировой чемпион по части народных восстаний, крестьянских войн и городских
бунтов.
Непокорность отличала не только низы общества, но и его верхи. Вникая в
подробности политических и общественных столкновений и противостояний почти на
всем протяжении отечественной истории, видишь, что они почти неизменно
разгорались именно на почве нетерпеливости (может быть, даже чрезмерной)
русских. Мы — народ, мало способный, сжав зубы, подолгу смиряться с чем-то
постылым, если впереди не маячит, не манит какое-нибудь диво. Когда же наш
предок видел, что плетью обуха не перешибешь, а впереди ничто не маячило и не
манило, он уезжал, убегал искать счастья в другом месте.
Кстати, именно эта черта русского характера сделала возможным заселение
исполинских пространств Евразии. Как писал историк Л.Сокольский ("Рост
среднего сословия в России", Одесса, 1907), "бегство народа от государственной
власти составляло все содержание народной истории России". Будь русский народ
терпеливым и покорным, наша страна осталась бы в границах Ивана Калиты и,
возможно, развивалась бы не по экстенсивному, а по интенсивному пути. В школьные
учебники истории как-то не попал тот факт, что земли на Севере, Северо-Востоке,
за Волгой, за Камой, к югу от "засечных линий" — короче, все бессчетные "украины"
по периферии Руси — заселялись вопреки противодействию московской власти,
самовольно. В 1683 дело дошло до царского указа об учреждении "крепких застав"
против переселенцев, но и эта мера оказалась тщетной. Государство шло вслед за
народом, всякий раз признавая свершившийся факт. "Воеводы вместо того, чтобы
разорять самовольные поселения, накладывали на них государственные подати и
оставляли их спокойно обрабатывать землю" (А.Дуров, "Краткий очерк колонизации
Сибири", Томск, 1891).
Помимо невооруженной крестьянской колонизации была колонизация вооруженная,
казачья. Заповедь "С Дона выдачи нет", да и вся история казачества, этого
глубоко русского феномена, слишком известны, чтобы об этом рассказывать здесь.
Отдельную главу нашей истории составляет трехвековое сопротивление миллионов
(миллионов!) старообрядцев всем попыткам заставить их перейти в официальную
конфессию.
Восстания и крестьянские войны имели место, конечно, и в Европе, но в целом
народы стиснутых своей географией стран проявили за последнюю тысячу лет
неизмеримо больше долготерпения, послушания и благоразумия, чем мы. Они
научились ждать и надеяться, класть пфениг к пфенигу, унавоживать малые клочки
земли и выживать в чудовищных по тесноте городах. Они стерпели побольше нашего —
стерпели огораживания, "кровавые законы", кромвелевский геноцид, истребление
гугенотов, гекатомбы Тридцатилетней войны, они вырыли еще до всех механизаций
почти пять тысяч километров (это не опечатка!) французских каналов и вытесали в
каменоломнях баснословное количество камня ради возведения тысяч замков, дворцов
и монастырей для своих господ, светских и духовных. Они и сегодня не идут на
красный свет даже когда улица пуста.
Именно в европейской истории мы сталкиваемся с примерами "труднообъяснимого"
смирения и покорности. Труднообъяснимого именно с русской точки зрения. Особенно
поразил меня, помню, один английский пример — и не из "темных веков", не из
времен первых "огораживаний", а из XIX века. Герцогиня Элизабет Сазерленд (Sutherland)
вместе со своим муженьком, маркизом Стаффордом, добившись прав практически на
все графство Сазерленд площадью 5,3 тыс. кв. км, изгнала оттуда (около 1820
года) три тысячи многодетных семейств, живших там с незапамятных времен. И эти
люди покорно ушли! [Казалось бы, скандальнейший факт, заслуживающий попасть в
европейские хрестоматии по общественным наукам и учебники социальной истории. Ан
нет! Если вы хотите докопаться до подробностей, не могу вам предложить ничего
более доступного, чем прочно всеми забытая книга швейцарского экономиста,
современника этих событий Жана Шарля Сисмонди "Этюды политической экономии" (Jean
Charles Leonard Simonde de Sismondi. Etudes d’ économie politique. Paris, 1837).
Данный факт не показался Западной Европе скандальным потому, что мало кто в мире
обладает такими запасами послушания, как ее жители. Где уж нам.]
Мы уже не услышим народные голоса прошлого, они не расскажут, каково им было в
жизни. Поэтому не возьмусь выносить суждение, какой народ был удачливее. Нет у
меня и ответа на вопрос, хорошо или плохо то, что нас, русских, так и не
выучили ходить по струнке. Но есть и нечто, не подлежащее сомнению:
заявления о покорности "вечно страдающего" русского народа, которые и по сей
день нет-нет, да и всплывают брюхом вверх то в одном, то в другом журналистском
тексте, можно объяснить лишь невежеством заявителей.
Затронув тему простого народа, давайте не обойдем трудный вопрос: по каким
критериям оценивать "качество жизни" наших предков, прежде всего крестьян?
Способны ли (и вправе ли) мы выносить какие-то суждения? Прошлое, не слишком ли
оно неуютно для нас, с нашими сегодняшними ценностями и бытовыми привычками? В
силах ли современный человек понять радости простолюдина Московской Руси или
любой другой страны прошлого? Помню, как удивил нас, студентов, старый профессор
географии Николай Леопольдович Корженевский, сказавший, что Афганистан, каким он
его застал в 1911 году, был страной неправдоподобно бедной и полностью
счастливой. Счастье человека не в богатстве.
Как сравнивать жизнь крестьян, степень их благополучия и довольства в несхожих
странах? Если сравнивать их питание, то стол русского крестьянина минимум до XIX
века обильнее, чем в большинстве мест Европы по причине невероятного
биологического богатства России (о чем не ведают сторонники "приполярной"
теории). Бескрайние леса буквально кишели зверем и птицей, в связи с чем
иностранцы называли Русь "огромным зверинцем" (Я.Рейтенфельс, "Сказания
светлейшему герцогу тосканскому Козьме III о Московии", М, 1906, стр.188). Охота
в России, в отличие от западноевропейских стран, не была привилегией высших
классов, ей предавались и самые простые люди (Н.И.Костомаров, "Домашняя жизнь и
нравы великорусского народа", М.,1993, стр. 194.). Реки, озера и пруды
изобиловали рыбой. Рыба, дичь, грибы и ягоды почти ничего не стоили. Такое было
возможно из-за слабой заселенности страны и "ничейности" почти всех лесов и вод
— в 70-е годы XVII века, когда Рейтенфельс жил в Москве, население России, уже
соединившейся с Малороссией, составляло всего лишь около 9 млн чел., вдвое
меньше, чем во Франции.
Другой важной особенностью русской жизни издавна было обилие праздников,
церковных и народных. Первые делились на "великие" (в том числе 12 главных) с
рядом "предпразднеств" и "попразднеств", "средние" и "малые" ("меньшие малые" и
"большие малые"). Манифест Павла Первого от 5 апреля 1797 года прямо запретил
помещикам заставлять крестьян работать в воскресные и праздничные дни.
Многие праздники были непереходящими, т.е. жестко приуроченными к определенному
дню. Храмовые праздники (одноименные с храмом) бывали "престольные", "съезжие" и
"гулевые". Конечно, праздновали память далеко не всех святых и событий Нового
Завета, иначе не осталось бы ни одного рабочего дня. Тем не менее, в году
набиралось под полторы сотни праздничных дней, из которых 52 падали, правда, на
воскресенья. Кануны некоторых (не всех) праздников считались полупраздниками,
так что работали полдня. Общими "вакациями" в государстве были Масленица,
Светлая неделя и две Рождественские недели. Были и светские праздники — день
Нового года и 8-9 "царских" дней: дни рождения и тезоименитств царя, царицы,
наследника и вдовствующей государыни (если была жива), а также день восшествия
царя на престол и день его коронования, а при Николае II — еще и день чудесного
спасения августейшей семьи, 17 октября по старому стилю.
Крестьянам и иному простому люду (кроме фабричного) немало досуга добавляли
народные праздники вроде вешнего и осеннего Егориев, Ивана Купалы, Ильи Пророка,
Семика, Красной горки, Покрова, Яблочного Спаса, Русальной недели, Духова дня,
Веснянки, Сретения, Родительского дня. Порой они накладывались на второстепенные
церковные, не празднуемые государством праздники. И, наконец, в любой местности
праздновалась память особо чтимых местных святых и блаженных. Сколько это
добавляло дней, сказать трудно, но так или иначе досуга у простых людей (мать
семейства не в счет; ее работа не кончалась никогда — дети, скотина, уборка,
готовка, стирка) было много больше, чем у связанных службой "непростых", и здесь
скорее господа понемногу стали следовать за мужиками, чем наоборот. Была,
конечно, и противоположная тенденция. Поскольку праздники съедали чуть ли не
половину годового рабочего времени и способствовали пьянству, власти и церковь
стремились сократить их количество. К концу прошлого века число официально
праздничных, неприсутственных дней в году в России было сведено к 98, но наших
крестьян это затрагивало мало (для сравнения, в Австро-Венгрии неприсутственных
дней осталось только 53 — т.е. воскресенья плюс еще один день).
Любовь к досугу и увеселениям на Руси четко выражена на протяжении всей ее
письменной истории. Описание того, как развлекались жители Пскова почти пятьсот
лет назад, в 1505 году, кажется до странности знакомым сегодняшнему читателю:
"Весь город поднимался; мужчины, женщины, молодые и старые, наряжались и
собирались на игрище... начиналось, по выражению современника, ногам скакание,
хребтам вихляние... происходило много соблазнительного по поводу сближения
молодых людей обоих полов" (Н.И.Костомаров, указ. соч., стр. 203-204). Церковь
старалась умерить веселый нрав народа и в киевские, и во владимиро-суздальские,
и в московские времена. В петербургский период у нее уже не было прежней силы. В
1743 Синод обращается в Сенат с ходатайством о запрете "скачек, ристаний,
плясок, кулачного боя и других бесчинств", но получает ответ: "подобные общие
забавы... служат для народного полирования, а не для какого безобразия".
"Склонность к веселостям народа здешней губернии, — сказано в "Топографическом
описании Владимирской губернии" за 1784 год, — весьма видна из того, что они не
только в торжествуемые ими праздники при пляске и пении с своими родственниками
и друзьями по целой неделе и более (sic! — А.Г.) гуляют, но и в воскресные
летние дни". Другое описание, другая губерния, Тульская: "Поселяне сей губернии
нрава веселого и в обхождении своем любят шутки. Пение и пляски любимое ими
препровождение времени".
Народные игры (помните некрасовское: "в игре ее конный не словит…"?) и
развлечения часто отличала замысловатость, приготовления к ним требовали
времени. В Костромской губернии, "в больших вотчинах в Сыропустное воскресенье
сбирается съезд из нескольких сот (! — А.Г.) лошадей" со всадниками, ряжеными в
соломенные кафтаны и колпаки (См: "Очерки русской культуры XVIII века", ч.4,
М.,1990.). Весьма сложной (наездник прорывался к снежной крепости через
препятствия), требовавшей долгой подготовки была изображенная Суриковым забава
"взятие снежного городка".
Описания народной русской жизни более близких к нам времен (конца XIX — начало
XX вв.) также переполнены свидетельствами о праздниках и увеселениях. Среди
переизданных в последнее время (и, стало быть, легко доступных) упомяну
увесистую "Народную Русь" А.А.Коринфского (М.,1995), впервые вышедшую в 1901
году.
Досуг в России весьма ценили и городские жители. У них эта черта породила около
трехсот лет назад такое сугубо русское явление, как дачная жизнь — явление,
постепенно ставшее воистину массовым. В Европе нечто подобное стало появляться
лишь в нашем веке, в последние десятилетия. По контрасту, протестантская Европа
и Америка между XVII веком и Первой мировой войной отдыхали мало. Воскресенье
посвящалось церкви и домашним делам, отпуск был еще в диковину. Отдыхал тонкий
слой богатых бездельников. Реформация почти исключила отдых из программы жизни,
чем немало содействовала экономическому рывку Запада. На появление в России
дачной жизни в столь далекие времена можно смотреть и как на опережающий
социальный прорыв, и как на пример того, насколько нации опасно расслабляться до
построения основ изобилия. Верны обе точки зрения.
Возвращаясь к крестьянам, можно сказать следующее. Конечно же, крестьянское
прошлое легким не было нигде, но в большинстве стран, давно завершивших процесс
раскрестьянивания, оно воспринимается сегодня в приукрашенном,
этнографически-театрализованном виде, чему помогает и невольный перенос
нынешнего благополучия в прошлое. У нас же в прошлое переносится, наоборот,
советское и постсоветское неблагополучие. Служи нам точкой отсчета хотя бы
предреволюционный российский уровень, картина гляделась бы иначе (Чтобы не
увязнуть здесь в достаточно сложной теме, отсылаю к объемистой работе
Т.К.Чугунова "Деревня на Голгофе" (Мюнхен, 1968). Анализ статистических и иных
данных привел ее автора к выводу, что условия жизни колхозника образца 1967 года
были в 33(!) раза хуже условий жизни крестьянина в 1913 году.). Мало того,
кажется, только у нас крестьянское прошлое сознательно окарикатурено, в том
числе и наукой (правда, есть отрадные исключения, и среди них монументальный
труд Марины Громыко "Мир русской деревни", М. 1991).
Хотя полностью объективный взгляд в прошлое едва ли возможен, я, сколько ни
вглядываюсь, не вижу признаков того, чтобы европейский простолюдин позднего
Средневековья — начала Нового времени, сельский или городской, был счастливее
своего русского современника. Напротив, я все время нахожу свидетельства того,
что верна как раз обратная точка зрения. Судить о "качестве жизни" народа на
протяжении длительных отрезков исторического времени — не высших слоев, а именно
народа — позволяет демографическая статистика, к ней и прибегнем. Возьмем три
века, предшествовавших Промышленной революции, время, когда крестьяне во всех
без исключения странах составляли подавляющее большинство, "планирование семьи"
было неведомо, женщины рожали столько детей, сколько Бог пошлет, а
ограничителями роста населения были болезни и моровые язвы, младенческая
смертность, голод, войны, непосильный труд, винопитие, неразвитая гигиена,
стрессы, общая тяжесть жизни. Если сегодня высокий прирост населения отличает
самые неблагополучные страны, тогда все обстояло наоборот. Тем более интересную
картину приоткрывают цифры. А именно, что между 1500 и 1796 годами число только
великороссов выросло в 4 раза (с 5 до 20 млн), тогда как французов — лишь на 80%
(с 15,5 до 28 млн), а итальянцев — на 64% (с 11 до 17 млн) (Демографический
энциклопедический словарь, М.,1985; В.М.Кабузан, "Народы России в XVIII веке",
М.,1990.). Вот и делайте выводы.
Чтобы закончить с темой "качества жизни" в те далекие времена, приведу три
цитаты из записок иностранцев, сделанных в царствования Федора Иоанновича,
Бориса Годунова и Алексея Михайловича, о русских: "Они ходят два или три раза в
неделю в баню, которая служит им вместо всяких лекарств" (Дж.Флетчер, "О
государстве Русском", около 1589); "Многие из Русских доживают до 80, 100, 120
лет, и только в старости знакомы с болезнями" (Якоб Маржерет, "Состояние
Российской державы... с 1590 по сентябрь 1606 г."); "Многие [русские] доживают
до глубокой старости, не испытав никогда и никакой болезни. Там можно видеть
сохранивших всю силу семидесятилетних стариков, с такой крепостью в мускулистых
руках, что выносят работу вовсе не под силу нашим молодым людям" (Августин
Мейерберг, "Путешествие в Московию", около 1662).
Более или менее установлено, что все разнообразие моделей развития в Европе
сводимо к двум. Этносы, предел территориальному расширению которых, особенно
после Великого Переселения народов, был положен сильными соседями и природными
рубежами, поневоле обращались к интенсивному способу ведения хозяйства. Они
претерпели на этом пути тьму лишений, зато приучились к систематическому, без
рывков, труду, изобрели тьму полезных навыков и технологий, и, по истечении
всего-то какой-нибудь тысячи лет, были ощутимо вознаграждены. Яркий пример —
история голландцев от франкского завоевания до завершения нидерландской
революции, т.е. до начала XVII века.
Вторая модель наглядно воплотилась у восточных славян, поселившихся в краю почти
без четко обозначенных природных рубежей. Лишь на юго-западе вставала стена
Карпат и обитали сильные соседи, да на юге таило угрозу Дикое Поле. На прочих
путях раскинулись почти нетронутые леса. Можно было углубляться все дальше и
дальше на восток и север, селиться вдоль бесчисленных рек, где, как справедливо
заметил Г.П.Федотов, проще было выжечь и распахать кусок ничьего соседнего леса,
чем удобрять истощившееся поле. На всяком новом месте за неделю ставилось
деревянное жилище. При таком обилии леса кто бы стал тратить силы и время на
каменное, чтобы оно потом держало его на месте, как якорь?
Вот где истоки нашей экстенсивной психологии, нашей легкости на подъем,
позволившей русскому этносу заселить огромные пространства. Видимо, точно так же
вел бы себя любой народ, независимо от языка и расы, оказавшись в этом углу
мира, у края бесконечного леса — сказочно богатого, но не враждебного, как в
тропиках. Экстенсивная модель поведения, будучи усвоена большинством отдельных
личностей, стала моделью поведения их государства. Вся история нашей страны —
это, с одной стороны, блаженное следование данной модели, а с другой — попытки
ее преодолеть. Попытки эти были то успешными, то нет, и предпринимались то под
влиянием иноземного примера, то по внутреннему императиву.
Другим судьбоносным для нас обстоятельством стало то, что в момент своего
обращения к христианству русские, в отличие от большинства других
наций-прозелитов, получили Священное Писание не на чуждом нам языке (латыни,
греческом или древнееврейском), а в понятном переводе славянских апостолов
Кирилла и Мефодия. Это не могло не сделать русское православие более домашней,
демистифицированной, народной религией, чем латиноязычный католицизм.
Однако, по меткому наблюдению того же Г.П.Федотова, именно из-за этого на Руси
не возникло присущего Западу типа монастырской учености, в основе которого
лежало непременное знание монахами латыни и приобщение — через латынь — к
сокровищам римской философии, истории, литературы. В Западной Европе на почве
этой монастырской учености выросли университеты, возродились "семь вольных
искусств". Из-за того, что главные проводники просвещения на Руси не были
обязаны изучать древние языки, подобного не произошло в землях наших предков, и
наоборот, проистекло накапливавшееся отставание в науках и технологиях. Данное
обстоятельство — досадный изъян нашего исторического наследия, по крайней мере,
на материалистический, картезианский, позитивистский взгляд.
Европа приняла эстафету христианства из рук падающей Западной Римской империи и
за десять веков саморазвития пришла к идее гуманизма. Русское же православие, а
стало быть и русское общество, пять веков оставалось под духовным патронатом
живой и все еще могущественной Восточной Римской империи (условно называемой
теперь Византией), где, как считается, постепенно побеждало нечто иное —
исихазм. Гуманизм породил европейское Возрождение, исихазм на русской почве —
"Святую Русь", этический и общественный идеал всеобщей святости.
Русский народ, говорит известный эмигрантский богослов А.В.Карташев, "устами
своих певцов, былинных сказителей и поэтов" назвал свою страну Святой Русью. "По
всем признакам, это многозначительное самоопределение... — низового, массового,
стихийного происхождения". Ни одна из христианских наций не вняла самому
существенному призыву церкви "именно к святости, свойству Божественному", лишь
Россия дерзнула "на сверхгордый эпитет" и отдала этому неземному идеалу свое
сердце (Русское Возрождение, № 42, 1988).
Поразительно, если вдуматься. Не "добрая старая" (как Англия), не "прекрасная"
(как Франция), не "сладостная" (как Италия), не "превыше всего" (как Германия),
а "святая". Есть авторы, например Виктор Тростников, вполне убедительно (по
крайней мере, пока их читаешь) обосновывающие утверждение, что в XVI веке этот
идеал был достигнут, что Святая Русь была реальностью.